
Начало спецоперации на Украине и пандемия коронавирусной инфекции привели к тому, что люди стали чаще обращаться за психологической помощью, отметил декан факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Юрий Зинченко. Это стимулировало рост спроса на клинических психологов, но также способствовало появлению на рынке неквалифицированных специалистов. О том, как отличить профессионала от шарлатана, решить проблему дефицита психологов в стране, и о помощи бойцам СВО — в интервью «Известиям» к открытию форума «Здоровье нации — основа процветания России» (ЗНОПР), который стартует 14 мая.
«Специалист — это тот, кто отучился пять–шесть лет»
— В 2024 году потребность россиян в психологической помощи выросла. Согласно опросу ВЦИОМ, за два года этот показатель увеличился на 34%. Насколько это стремительный рост?
— Я бы не назвал цифру рекордной. Но обозначенный в опросе рост закономерен: сначала был COVID-19, потом — спецоперация.
Ограничения в пандемию привнесли новые условия: люди перепрыгнули из обычной активной жизни в достаточно ограниченное пространство своего жилья. Если сравнить ситуацию в Китайской Народной Республике, Западной Европе, в африканских странах и России, то можно сказать, что наше общество пережило пандемию и вышло из локдауна не так травматично, как жители других стран.
С началом спецоперации число обращений тоже возросло, но могло бы быть гораздо значительнее. Это говорит о том, что у россиян достаточно высокий уровень психологической самопомощи.
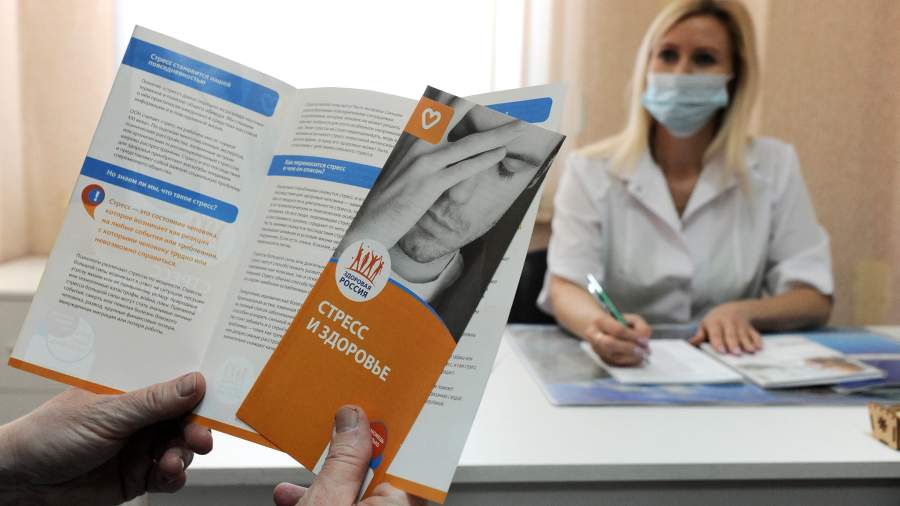
— Чаще всего на прием к психологам в прошлом году, по данным ВЦИОМ, приходили женщины. Сохраняется ли гендерный перевес сейчас?
— Действительно, женщины активнее мужчин заботятся о своем психологическом здоровье. Это связано с тем, что традиция обращаемости у мужчин намного ниже. Но с началом СВО частота запросов и от них возросла.
Кроме того, с началом спецоперации также появились беженцы, вынужденные переселенцы, среди них помимо женщин — дети и пожилые. Им тоже требуется психологическая поддержка.

— Министр здравоохранения Михаил Мурашко в марте 2025 года указал на дефицит психологов в стране. Чем он вызван?
— Дефицит есть, его наличие — это показатель востребованности психологической помощи. В системе здравоохранения лишь 15 лет назад была введена должность «медицинский психолог». А когда вводится новая должность в государственной системе, то это влечет за собой необходимость в дополнительных ресурсах на зарплаты, закупки оборудования, аренду помещения.

Но я бы не сказал, что только медицинских психологов не хватает. Во многих областях потребность в специалистах выросла.

— Только на одном рекрутинговом сайте размещено более полумиллиона резюме соискателей в сфере «психолог». Почему в стране столько соискателей на эти вакансии, а они не закрыты?
— В первую очередь это связано с тем, кто именно позиционирует себя как психолог — человек с высшим образованием в этой сфере или нет. Сейчас многие прошли программы допобразования и после этого начали считать себя профессиональными психологами, подали заявки на поиск работы в этой области. Таким путем они пытаются занять нишу.
Федерального закона, который регулирует оказание психологической помощи и требования к тому, кто ее должен оказывать, сейчас нет. С профессиональной точки зрения, все те, кто выдает себя за психологов — нелегалы.
При этом работодатели заинтересованы в квалифицированных сотрудниках.

— Сейчас огромное количество блогеров и коучей, которые называют себя психологами. Как отличить хорошего специалиста от шарлатана?
— Нужно руководствоваться отзывами, искать специалистов внутри профессиональных организаций или клиник ментального здоровья. В этих организациях существуют определенные требования к психологу, ключевое — это наличие высшего психологического образования.
Также важен вид высшего образования, так как можно окончить только бакалавриат или магистратуру, а можно — обе ступени. Квалифицированным специалистом считается тот, кто отучился пять–шесть лет. Но с введением Болонской системы таких специалистов стало очень мало.
Помимо наличия высшего образования важно, чтобы психолог прошел аттестацию для вхождения в профессию. Этот экзамен проверяет не только теоретическую часть, но и практические навыки.

Сейчас активно выстраивается целая площадка психологических служб вузов, куда берется не просто доброволец, а специалист, который имеет психологическое, прошел программу дополнительного образования и готов работать в том или ином направлении. Много психологов у нас в школах и детских садах.
«Моменты негативного отношения к ребенку лучше видны не психологу, а учителю-предметнику»
— Насколько значителен сейчас запрос на их помощь в связи с травлей учеников? Каких мер контроля за ситуацией не хватает в школах?
— Необходимо обратить внимание на образование специалистов этого профиля в школах, потому что у нас есть психологическое в рамках образовательных стандартов, а есть педагогическое. В рамках педагогического готовят педагогов-психологов. Их часть смешивают по компетенциям с клиническим психологом. Но функционал специалистов расходится.
В обязанности педагога-психолога входит работа с детьми с особенностями в развитии наравне с обычными. В условиях 45-минутного урока сложно уделить внимание не только процессу обучения, но и атмосфере внутри класса. И тут важную роль играет школьный психолог. Поэтому при травле важен комплексный подход.
Моменты негативного отношения к ребенку лучше видны не психологу, а учителю-предметнику или классному руководителю. В их задачи входит вовремя отследить ситуацию во время уроков и на переменах и подключить к ее разрешению школьного психолога. Только совместное внимание со стороны учителя, классного руководителя, школьного психолога, родителей и руководства школы могут способствовать своевременному предупреждению негативных ситуаций.

— Как отличаются подходы в оказании психологической помощи ребенку в зависимости от возраста и взрослому?
— Ребенок — это отдельный развивающийся мир. Методов, способов, технологий оказания психологической помощи очень много. Одних видов психотерапии существует более 2 тыс. Их выбор, конечно, определяется возрастом, в котором эту помощь оказывают. Например, тот вид психологической поддержки, который оказывается ребенку от трех до шести лет, может отличаться от того, который подойдет старшекласснику.
К молодым и взрослым среднего возраста применяются схожие подходы. Но отдельно выделяют геронтопсихологию — раздел, который изучает психику людей пожилого возраста. Он ориентирован на людей с болезнями Паркинсона и Альцгеймера, нейродегенеративными заболеваниями и нацелен на сохранение когнитивных функций.

— Одна из тем, которая будет обсуждаться на форуме, — это увеличение продолжительности жизни населения. Планируется, например, что к 2036 году этот показатель увеличится до 80 лет и более. Какую роль в достижении этой цели могли бы сыграть психологи?
— В задачи не входит механически взять и увеличить продолжительность жизни, важно сохранить ее хорошее качество. Основная задача — сохранить когнитивные способности и эмоциональный фон. Это как раз компетенции психологов.
Важно избегать стресса, потому что он влияет на гормональный фон, а его изменение отражается на психоэмоциональном состоянии человека и его здоровье. Например, начинают страдать сердечно-сосудистая и мышечная системы.
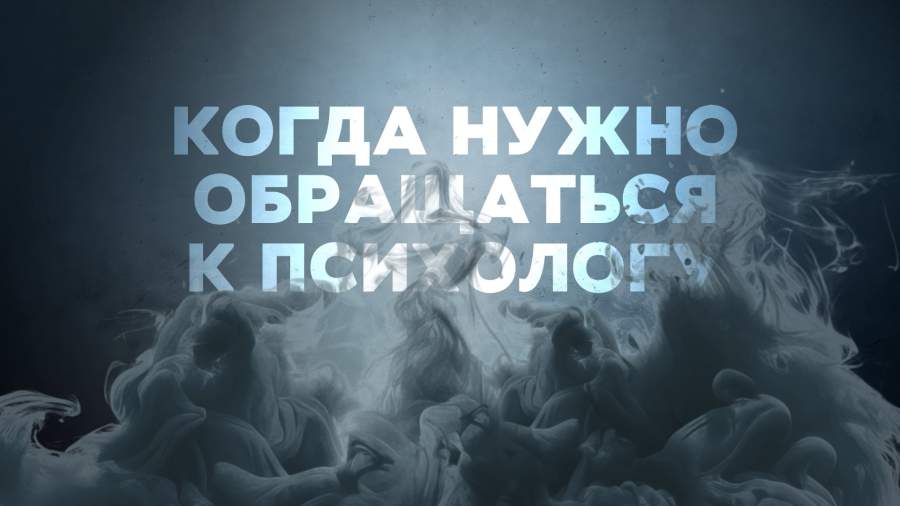
«Работа с ПТСР не популярна среди специалистов»
— Еще одна из тем форума — работа с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). В 2023 году профессиональное сообщество психиатров впервые разработало клинические рекомендации по оказанию помощи при ПТСР. В чем особенность ведения пациентов с этим диагнозом?
— Сперва давайте обратимся к истории, откуда взялась аббревиатура ПТСР. Она уходит к периоду ведения Соединенными Штатами Америки войн во Вьетнаме и Южной Корее. Дело в том, что американская медицина со стороны государства практически ничего не гарантирует, кроме важной экстренной минимальной медицинской помощи, все остальные виды помощи платные. Во время войн американские солдаты возвращались, и им либо нужна была ампутация, либо у них страдала сердечно-сосудистая система, такую помощь они получали, государство компенсировало эти расходы.
Но потом возникла ситуация, когда у них стали возникать изменения в психологическом здоровье, и вот их лечение страховка не покрывала. Для получения помощи по ней у человека обязательно должен быть медицинский диагноз. Тогда приняли решение обозначать состояние ветеранов, при котором они испытывают определенный набор симптомов, не похожий на психиатрическое заболевание, посттравматическим стрессовым расстройством.

Стоит учитывать, что чаще всего симптоматика ПТСР проявляется не сразу, не в окопах, а через определенное время. Может пройти и полгода, и год, и полтора, пока она даст о себе знать. Это закономерно, потому что особенно те, кого мобилизовали, были вынуждены резко изменить свою жизнь и оказались в стрессовых для себя условиях. А потом они привыкли к условиям на фронте, и мирная жизнь, выстраивание семейных отношений при возвращении им стали даваться уже не так легко. В этот момент очень важно поддержать солдата, чтобы он нашел в себе силы и желание адаптироваться под новые условия.
Не стоит забывать, что ситуации бывают разные: один пришел, и ему нужно адаптироваться только под мирную жизнь, а другой перенес ампутацию, в таком случае, например, у него могут возникнуть еще проблемы с работой. А если он был единственным кормильцем в семье, это может отразиться на его уверенности в себе и желании дальше жить.

— Как помочь таким людям?
— Важно создать образ будущего для вернувшегося солдата, подкрепить его местом работы, если нужно, провести переподготовку, дополнительное обучение. Необходимо помочь выстроить ему целеполагание с учетом изменившихся обстоятельств. Для решения этих задач подключают клинических психологов или психиатров. Но работа с ПТСР не популярна среди специалистов. С началом СВО появилось понимание, что нужны дополнительные образовательные программы для психологов, сейчас они уже созданы.

С самого начала спецоперации на факультете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова мы разработали программу повышения квалификации для психологов. Она получила название «Психологическое сопровождение боевых стрессовых расстройств и посттравматических стрессовых расстройств». Ее ведут передовые специалисты в области клинической психологии, военной психиатрии, кризисной психологии. Они работают непосредственно с участниками и ветеранами СВО, а также членами их семей. Особое внимание уделяется проживанию горя, переживанию утраты и последствиями боевого стресса.
На данный момент обучено более 600 специалистов. Также сейчас Российское психологическое общество совместно с МГУ запускает образовательную программу «Наставник группы социально-психологической поддержки участников боевых действий» для ветеранов СВО. На ней специалисты-психологи помогут бойцам овладеть навыками проведения групповой работы, оказания поддержки вернувшимся солдатам и членам их семей, которым трудно самостоятельно адаптироваться под мирную жизнь.
 НОВОСТИ СЕГОДНЯ
НОВОСТИ СЕГОДНЯ
 Похожие новости:
Похожие новости: