
Был ли сюрреализм в СССР, как на жизни небольшой свечной лавки отразилась эпоха ковида и за что Эль Лисицкий критиковал архитектуру Казанского вокзала? Ответы на эти вопросы — в книжных новинках месяца. «Известия» вчитались в них и выбрали самое интересное.
Сюрреализм в стране большевиков
Александра Селиванова, Надежда Плунгян

Забавное и немного абсурдистское название книги, отсылающее к классическому фильму Льва Кулешова «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков», только на первый взгляд кажется шуткой. На самом деле оно серьезнее некуда. Собственно, весь этот коллективный труд (далеко не все авторы статей перечислены на обложке) посвящен ответу на вопрос, был ли сюрреализм в СССР. И если да, то в каких проявлениях?
Импульсом к созданию сборника стала одноименная выставка, организованная Центром авангарда и галереей «На Шаболовке» еще в 2017 году. Но перед нами вовсе не запоздалый каталог, хотя цветные репродукции экспонатов здесь тоже есть, а групповое размышление над темами, поднятыми восемь лет назад и по сей день будоражащими воображение.

Ведь что такое сюрреализм? Это не просто стиль, не просто жонглирование несколькими фирменными образами, ассоциирующимися с Сальвадором Дали. Это конструирование воображаемой реальности, а через нее — высвечивание тех странностей, абсурдностей, потаенных желаний и фантазий, которые пропитывают повседневную жизнь где угодно. Даже в государстве с доминирующей марксистско-ленинской идеологией, вроде бы чуждой всяким западным «измам».
Из книги читатель узнает, что сюрреалистами были, например, ученики Малевича, да и отчасти он сам. Что элементы этого стиля прорывались даже в сугубо утилитарные издания вроде «Атласа переливания крови» или пропагандистские плакаты. Да и вообще недаром в СССР шутили — «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью». Так что, перефразируя Дали, заявившего «Сюрреализм — это я», по прочтении сборника можно признать: «Сюрреализм — это мы».
Свечи Апокалипсиса
Татьяна Замировская

Писательница, музыкальный журналист Татьяна Замировская еще в 2010-е годы уехала из Беларуси в США и устроилась работать в магазин подарочных свечей. Повседневные случаи из жизни лавки — выходки эксцентричных покупателей, забавные происшествия и тому подобное — Замировская описывала в популярной соцсети. Ирония и наблюдательность автора, особая интонация, в которой парадоксально сочетаются цинизм и нежность, принесли блогу известность.
Теперь же заметки собраны в книгу, и это не просто формальная попытка монетизировать сетевую популярность (издания, представляющие собой просто распечатку постов, давно уже стали отдельным, признаться, не самым уважаемым жанром), но попытка собрать из кусочков мозаики целостное изображение. В котором, при всей его кажущейся приземленности, отразилась целая эпоха.
Поворотный момент — пандемия, меняющая и весь мир вокруг, и тот маленький уютный мирок, в котором живут герои книги. Именно это событие оказывается тем апокалипсисом, о котором говорится в названии. И хотя, казалось бы, ковид давно позади, в прошлой жизни, текст Замировской можно читать как своего рода универсальный рецепт выживания: скромный, не пафосный, немножко эскапистский и, главное, актуальный в любые турбулентные времена.
Плодородный край. Пауль Клее
Пьер Булез

В этом году мир отмечает 100 лет со дня рождения Пьера Булеза — одного из крупнейших композиторов и дирижеров XX века. Но если записи его знают многие меломаны, а некоторые даже слышали выступление мэтра вживую (он приезжал в СССР со своими коллективами в 1967 и 1990 годах), то теоретическое наследие Булеза у нас практически не издано. Единственный небольшой сборник вышел давно и стал библиографической редкостью.

Новая книга, правда, лишь отчасти закрывает лакуну. Это лишь капля в море, если учесть общий объем написанного Булезом. Зато — крайне любопытная. Дело в том, что Булез здесь рассуждает не о музыке (по крайней мере, не только о ней), а о живописи. Пауль Клее — художник первой половины прошлого столетия, в творчестве которого проявились ключевые тенденции эпохи: от экспрессионизма и абстракционизма до сюрреализма. Булез, однако, обращает внимание, что Клее хотел стать скрипачом и даже играл в оркестре. И утверждает, что музыкальные принципы лежат в основе его художественного метода. А в итоге приходит к неожиданному признанию: «То, что Клее удалось в пластическом искусстве, я попробовал повторить в музыке, дав уху нечто такое, что предоставляло бы ему подвижность слушания и в то же время принуждало бы его к неподвижности».
В общем, это та книга, которая поможет лучше понять и Клее, и самого Булеза.
Преодоление искусства. Избранные тексты
Эль Лисицкий

Фигура художника, архитектора, дизайнера Эль Лисицкого в последние годы нередко оказывалась в центре внимания ценителей искусства. Достаточно вспомнить грандиозную ретроспективу художника, развернувшуюся одновременно на двух площадках (Новой Третьяковке и Еврейском музее и Центре толерантности), обнаружение на ВДНХ — прямо на улице — его подлинной постройки, призванной стать рекламой павильона «Рыболовство». Ну а уж групповые экспозиции с участием различных его произведений и вовсе не перечесть. Пожалуй, наряду с Александром Родченко Лисицкий становится в сознании массовой аудитории главным художником эпохи конструктивизма. И вполне логично, что вслед за текстами упомянутого Родченко в продаже появился и сборник публицистики Лисицкого.
Здесь и его доклады, прочитанные по самым разным случаям, и заметки в советской периодической печати. В частности, Лисицкий пишет в журнал «Красная Нива» — еженедельное приложением к газете «Известия» (статья «Американизм в советской архитектуре»). И всё это не сухое теоретизирование, а эмоциональные, подчас острополемические высказывания по самым разным вопросам. Лисицкий критикует архитектуру Большого Каменного моста и Казанского вокзала, предлагает революционный проект «горизонтальных небоскребов» (длинных зданий, лежащих на тонкой «ножке», вокруг которой могут быть дороги, пешеходные зоны и так далее), рассуждает о книжном оформлении, и так далее. Читаются его размышления легко, но еще важнее, что эти вроде бы разрозненные тексты становятся своеобразным отражением самой эпохи.
 НОВОСТИ СЕГОДНЯ
НОВОСТИ СЕГОДНЯ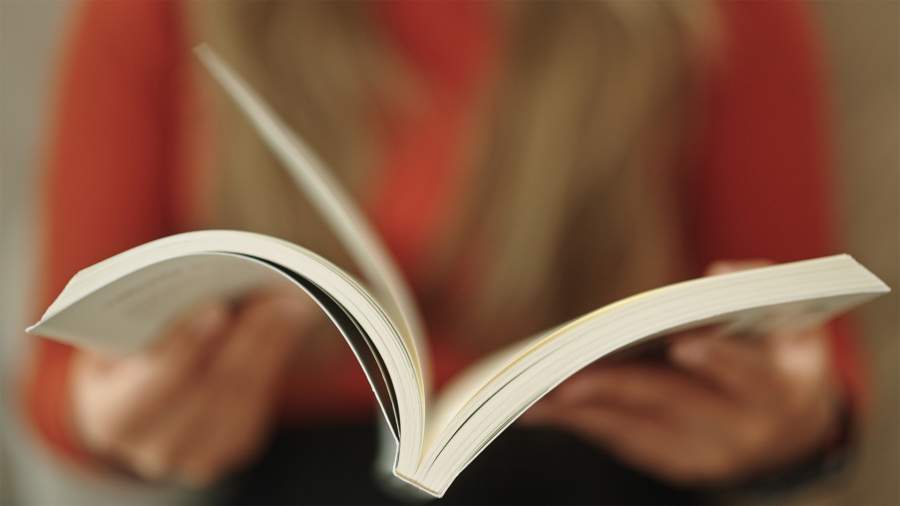
 Похожие новости:
Похожие новости: