
Для тридцатилетнего периода «реформирования» экономики России самым характерным стал кризис пенсионной системы, в который она сразу же втянулась с начала 90-х годов прошлого столетия. Этот кризис характеризуется ростом дефицита пенсионных средств, низким уровнем пенсий, слабой их дифференциацией, повышением возраста выхода на пенсию, провалом накопительного метода их финансирования, сокращением покупательной способности, но особенно низким их соотношением к среднему заработку по сравнению с развитыми странами мира. Между тем именно соотношение пенсий и зарплат является главным индикатором справедливой пенсионной системы. В последние годы это соотношение в России снизилось до 25%, а не 40% — норматива пенсионного минимума, введенного 102-й Конвенцией Международной организации труда (МОТ) и увеличенного МОТ 22 июня 1970 года до 55%.
В последнее время российскими «реформаторами» вновь начал подниматься вопрос о необходимости «нового» реформирования пенсионной системы. Весьма тихо, шепотом, опять поднимается вопрос о повышении пенсионного возраста, увеличении налогов и страховых взносов в Социальный фонд в связи с неблагоприятной демографической ситуацией и недостатком финансовых ресурсов.
С теоретической точки зрения, логика псевдореформаторов пенсионной системы — логика сиюминутная, весьма далекая от экономической сущности рассматриваемых процессов.1 И похожа она на библейскую легенду евангелиста Матфея, изложенную им в Главе 14 святого благовествования о том, как Иисус пятью хлебами и двумя рыбами «насытил около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей».2
Пенсионная система любого государства есть зеркальное отражение развития экономики. Качественная и количественная составляющая пенсионного обеспечения граждан — пенсия — это, в конечном счете, проблема эффективности всей экономики.
В политико-экономическом плане ни сложная демографическая ситуация в стране, ни возраст выхода на пенсию не являются основными причинами кризиса пенсионной системы Российской Федерации.
К. Маркс, анализируя теории А. Смита, Рикардо и других экономистов о производительном и непроизводительном труде, формулирует общий закон: «Страна тем богаче, чем меньше ее производительное население по отношению (выделено К. Марксом) к совокупному продукту... Страна тем богаче, чем меньше, при одном и том же количестве продуктов, производительное население по отношению к непроизводительному. Ведь относительная малочисленность производительного населения была бы только другим выражением относительной высоты производительности труда».3
Как видим, К. Маркс подчеркивает здесь прямую зависимость между увеличением богатства общества, уровнем производительности общественного труда в экономике, в материальном производстве и уровнем развития социальной сферы: науки и образования, здравоохранения и пенсионного обеспечения. Чем больше материальных благ экономика доставляет обществу, чем выше производительность труда в материальном производстве, тем больше занятые в экономике способствуют развитию непроизводственных отраслей, могут содержать непроизводительных работников.
Не является исключением и пенсионная система Российской Федерации, отражающая «реформирование» экономики страны.
Курс рыночного фундаментализма, проводимый российскими либерал-экономистами с начала 90-х годов, имея в виду, что саморегулируемый (!!) механизм рыночной системы якобы расставит всех и вся по своим нишам и создаст новую структуру форм собственности, иную систему разделения труда в российской экономике, показал свою ущербность в форме Величайшей российской депрессии,4 загнал отечественную экономику в хронический кризис. Россия за этот период по многим показателям так и не вышла на уровень 1990 года, провалив программу удвоения ВВП, «майские» блоки экономических указов президента (2012 и 2018 гг.), предусматривающих по 5% ежегодного роста ВВП, увеличение реальных доходов населения ежегодно на 4-5%, создание 25 миллионов квалифицированных рабочих мест, скатилась во второй десяток стран мира, а по качеству жизни — на 70-е место.
Доля России в мировом ВВП сократилась с 9 до 3%. За эти годы ВВП России, по данным Росстата, увеличился на 31 процент, то есть меньше 1 процента прироста в год. За это же время в Америке он вырос в 2 раза, в Европейском союзе — в 1,5 раза, в Индии — в 8,6 раза, в Китае — в 15 раз. Агрегированный индекс промышленного производства, по данным Росстата, даже через тридцать лет «реформирования» не достиг уровня 1990 года.
Негативные изменения в экономике в значительной степени затронули и демографическую сферу, трудовые отношения. «Реформирование» привело к устойчивому сокращению численности населения, снижению числа занятых в реальном секторе экономики. В результате если соотношение занятых и пенсионеров в 1992 году составляло 2,04 к 1 (одному), то с 1993 года оно опустилось ниже 2 (двух) и держится на этом уровне до сих пор.
Так, сегодня в стране на 75 млн лиц трудоспособного возраста приходится примерно 42,8 млн пенсионеров. Соотношение 1:1,7, тогда как в государствах со стабильной экономикой это соотношение находится на уровне 2,2-2,4:1. Поэтому вряд ли можно согласиться с выводом члена комитета Госдумы по труду и соцполитике С. Бессараб, которая заявила РИА Новости, что «экономика страны достаточно развита, чтобы обеспечить своих пенсионеров». Реальная жизнь показывает, что это, к сожалению, далеко не так.
К кризису в пенсионной системе привел не только социально-экономический кризис. Этому значительно способствовало также и то, что «реформирование» российской пенсионной системы было проведено весьма далеко от теории и позитивной мировой практики, примитивными российскими управленцами.
Зурабовские, батановские, голиковские пенсионные «эксперименты», расчет пенсии на основе так называемого «индивидуального пенсионного коэффициента» (пенсионного балла), повышение сроков выхода на пенсию, заморозка индексации пенсий работающим пенсионерам и недоиндексация для остальных, «игры» с накопительным компонентом привели к тому, что пенсионная система Российской Федерации неминуемо вступила в еще более глубокий затяжной кризис, теряла свою устойчивость, являющуюся важнейшим международным показателем эффективности пенсионного обеспечения и социальной справедливости. И после каждой «реформы» положение пенсионеров все более ухудшалось.
Так, логика решения пенсионных проблем за счет повышения пенсионного возраста никак не экономико-реформаторская, а арифметика безграмотных лавочников-бухгалтеров — «размазать» сокращающиеся объемы финансовых пенсионных ресурсов между сократившимся за счет увеличения пенсионного возраста количеством пенсионеров, создав на определенный период — именно лишь на определенный период — видимость благополучия в пенсионном обеспечении страны.
Известно, что ориентация работников на повышение пенсионного возраста в развитых странах осуществлялась5 заблаговременно со сроками конкретного изменения выхода на пенсию через 7-10-15-20 лет, в зависимости от достижения определенного уровня, показателей эффективности экономики в той или иной стране. При этом работникам гарантировалось, что при изменении возраста выхода на пенсию ее величина от средней заработной платы — (коэффициент замещения) — составит не менее 40% — норматива пенсионного минимума, введенного МОТ. Поэтому будущие пенсионеры с пониманием отнеслись к повышению пенсионного возраста, и никаких социальных недовольств не было.
Подчеркнем, что пенсия в развитых странах формируется из двух источников: из государственной распределительной системы, составляющей в итоговом коэффициенте замещения до 55%, и накопительного компонента, формируемого, как правило, на добровольной основе, с огромными льготами и равного от 15 до 40%. В конечном счете, пенсионный коэффициент составляет в Ирландии — 79,7% по отношению к заработной плате, в США — 76,1, в Канаде — 73,1, в Великобритании — 67,1, в Норвегии — 63,8, в Германии — 58,0, в Бельгии — 56,1%, из которых значительная часть, еще раз повторим, — от 15 до 40% приходится на накопительный компонент. Такая пенсионная система, как считают большинство специалистов в мире, наиболее полно соответствует принципам социального страхования — самоответственности, солидарности и субсидиарности.
Исходя из мирового опыта, в России достойное пенсионное обеспечение в нынешних социально-экономических условиях — при коэффициенте замещения, не превышающем 30%, не может быть достигнуто без восстановления накопительного компонента, формируемого на добровольной основе. Государство при этом должно нести реальную ответственность за сохранность накопительных средств граждан, а не обманывать будущих пенсионеров, «замораживая» деньги, тем самым разрушая веру граждан в порядочность государственной системы. Российским «реформаторам» было бы неплохо, в целях повышения эффективности накопительной системы, сверить исполнение накопительного компонента с зарубежными странами и не туманить мозги будущим пенсионерам.
Напомним, что по таким показателям эффективности производства, как ВВП на душу населения, производительность труда, реальные доходы, Россия отстает от развитых стран мира более чем в 2-3 раза. Так, например, нынешний российский уровень душевого ВВП достигнут Великобританией и Францией около 40 лет назад, а США — примерно 50 лет назад. Отсюда и величина пенсий в развитых странах мира в 1,5-3 раза выше, чем в России.
Если это так, то о какой стабильной, устойчивой пенсионной системе в России может идти речь? Неудивительно, что в странах, где производительность труда превышает российский уровень в 2,5-3 раза, — Великобритании, Германии, Норвегии, США, — во столько же раз и больше коэффициент замещения, а следовательно, в 2-3 — как минимум — выше и пенсионное обеспечение. Вот и ищут российские либералы от «экономики» и политики-чиновники, не понимая глубинной сути экономического развития, сиюминутные пути, чтобы заткнуть дыры, допущенные ими же в процессе «реформирования» экономической и пенсионной систем, как базы настоящей, теоретически обоснованной пенсионной реформы.
Опять вынужден привести пример. «Реформой» 2019 года по повышению возраста выхода на пенсию предполагалось, что в 2024 году «средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров достигнет 20 тысяч рублей в месяц».
Выступая в Совете Федерации, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что после индексации в 2024 году средний размер пенсий в России составил 23,2 тыс. руб. в месяц.
Сопоставим этот российский показатель, достигнутый в 2024 году, с нынешним пенсионным обеспечением в развитых странах. В Германии пенсия составляет в среднем более 62 тысяч рублей; в Англии — 53,5 тысячи рублей. Американцы — более 79 тысяч рублей. В Швейцарии — более 118,5 тысячи рублей. Наконец, в Дании пенсионеры получают более 222 тысяч рублей.
«Теоретики» неореформирования пенсионной системы не понимают, что простое повышение пенсионного возраста в отрыве от кардинального реформирования экономики таит в себе скрытую опасность — проявлению негативного макроэкономического эффекта. Такое повышение негативно влияет на демографическую ситуацию, автоматически снижает мотивацию к росту производительности труда, ускорению научно-технического прогресса, техническому перевооружению производства, поскольку для работодателей снимает угрозу дефицита труда. В конечном счете, это еще более углубит кризис пенсионной системы со всеми вытекающими из этого социальными последствиями.
Все как раз должно делаться наоборот. В основе радикального технологического ускорения лежит грядущая революция роботов, роботизированная автоматизация — единственный научно-выверенный путь повышения производительности труда и качества продукции в XXI веке. Ускоренное развитие этого процесса объективно предполагает выведение живого труда из сферы производства и увеличение «свободного времени» человека.
Мировыми лидерами в промышленной роботизированной автоматизации являются Китай и Южная Корея. Плотность роботизации в Южной Корее равна 478 роботов на 10 000 сотрудников. Также в тройку лидеров входят Япония (314 роботов) и Германия (292). США занимают седьмое место в мире (164 робота на 10000 человек).
Развитые страны сегодня обсуждают проблему выведения излишней рабочей силы из сферы производства путем перехода на 4-дневную рабочую неделю, введения безусловного дохода (чтобы люди могли жить, вообще не работая или работая только по желанию), искусственно откладывают срок входа молодежи на рынок труда, вводя дополнительные различные ступени образования. И эта тенденция завоюет будущее.
Россия же вместо реального повышения эффективности экономики, ускорения научно-технического прогресса, достижения «рывка», прорыва в научно-технологическом и социально-экономическом развитии и вхождения в пятерку лучших экономик мира, о чем президент В. Путин заявлял еще в майских указах 2012 и 2018 годов, «неореформаторами» нацелена ровно в противоположном направлении.
Поэтому неудивительно, что у депутатов Госдумы (С. Бессараб) возникают вопросы: «Если работающих будет меньше, значит, государству откуда-то нужно еще найти деньги, чтобы обеспечить пенсионеров. То есть нужно сокращаться. Либо увеличивать взносы и налоги, либо сокращать пенсии. Поэтому лучше бы нам все-таки демографию выправить».
В России количество промышленных роботов на 10 000 человек населения на два порядка (!!) меньше, чем в странах-лидерах. По этому показателю мы сегодня находимся ниже таких стран, как Таиланд, Мексика и Филиппины.
В России в среднем используется лишь 8-10% инновационных идей и высокотехнологичных продуктов, тогда как, например, в США — 62%, в Японии — 95%. Отечественная заводская наука выполняет лишь 6% научных исследований, а в компаниях стран ЕС — 65%, в Японии — 71%, в США — 75%. Другими словами, ни о каком реформировании экономики на новой научно-технической базе, достижении, как справедливо подчеркнул Президент РФ В. Путин, «рывка. Рывка в модернизации экономики и инфраструктуры», речи пока не идет. Тогда о какой пенсионной реформе может идти речь?
Неудивительно, что российские «теоретики» пенсионной «реформы» убеждают политическое руководство страны не на реализацию мировых научно-технических тенденций, не на ускоренную автоматизацию производственного процесса, а на примитивное увеличение возраста выхода на пенсию как панацею от экономических бед.
Из этого следует главный политико-экономический вывод: реформирование системы пенсионного обеспечения Российской Федерации, формирование устойчивости пенсионной системы при дальнейшей реализации монетаристской неолиберальной модели экономического «роста» абсолютно невозможно.
Продолжение пенсионной «реформы» в направлении, в каком она осуществлялась последние двадцать пять лет, особенно намеки на дальнейшее повышение возраста выхода на пенсию, повышение налогов и сборов, чревато сильными социальными последствиями, поскольку охватывает не только пенсионеров, а более широкий круг населения: рабочих, трудовое крестьянство, врачей, учителей и другую категорию трудящихся.
И самое вредное, пагубное — это приведет к дальнейшему ускоренному отставанию России от лидеров мировой экономики!
Продолжать ориентироваться на ущербную либеральную идею, защищать российский олигархический капитализм — это просто абсурд, особенно для молодежи, населения, живущего за чертой бедности, научной и творческой интеллигенции.
Хочется кому-то признавать или нет, но в стране формируется внятный запрос на экономику нового качества, исходя из позитивного мирового опыта. Это прежде всего опыт Китая, Вьетнама, Швеции. Социализм с китайской спецификой обобщил преимущества капитализма и социализма, свободного рынка и государственного регулирования на планово-рыночной основе. Именно здесь, на Востоке, сегодня закладываются контуры мира будущего, создается новый мировой порядок, отвергающий либеральный западный мир.
Исходя из динамики развития общественно-экономических формаций, позитивного мирового опыта, наиболее приемлемой для Российской Федерации должна быть модель политико-экономического развития, опирающаяся на государственный планово-рыночный механизм, формирующий социально справедливое общество социалистического типа. Планово-рыночный (!) на государственной основе.
Это позволит реализовать назревшие социально-экономические проблемы страны, в том числе и повышение качественно-количественных показателей пенсионного обеспечения граждан, в том числе и достичь норматива пенсионного минимума, введенного МОТ — 55%.
Автор статьи: Юрий Воронин - доктор экономических наук, профессор,
заместитель Председателя Совета министров Татарской АССР-
Председатель Госплана ТАССР; Первый заместитель Председателя
Верховного Совета РФ; депутат Государственной Думы (второго созыва);
аудитор Счетной палаты РФ.
1 См. более подробно: Воронин Ю.М. Пенсионная система в Российской Федерации (Теоретические аспекты реформы). Федеральный справочник: Политика, экономика, управление; июль-декабрь 2005.
2 См.: Библия: Книги Нового завета. Святое благовествование от Матфея, глава 14.
3 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.26, ч.I, с.215.
4 Воронин Ю. Величайшая российская депрессия. Межд. изд. дом LAP (Lambert Academic Publishing), 2014.
5 См. подробнее: Воронин Ю. Провал пенсионной системы. «Российская Федерация сегодня», № 24, 2005; Российская «пенсионка» в шоке. «Аргументы недели», 20.11.2020.
 НОВОСТИ СЕГОДНЯ
НОВОСТИ СЕГОДНЯ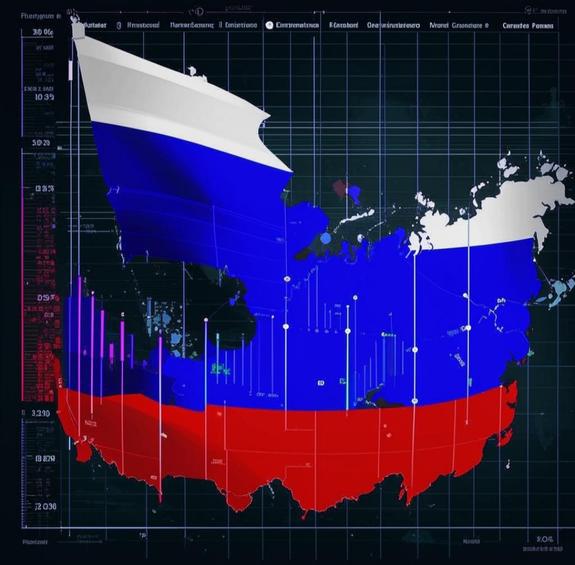
 Похожие новости:
Похожие новости: