
В Музее Москвы открылась выставка «Августейший хозяин Москвы», посвященная великому князю Сергею Александровичу — генерал-губернатору, командующему войсками Московского военного округа, но в первую очередь меценату и благотворителю.
Экспозиция, посвященная 120-летию памяти великого князя, подготовлена фондом Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества при поддержке Департамента культуры Москвы. Участие в выставочном проекте приняли более 30 ведущих музеев, архивов, библиотек, а также частные коллекционеры. Огромное количество экспонатов — свыше 500 предметов: документов, книг, гравюр, картин, фотографий, артефактов разного рода — тут и меню обедов разного уровня светскости, тарелки и лафитники из сервиза лейб-гвардии Преображенского полка, мундиры, ордена и медали, археологические находки...
ПРИНЦ ИЗ СКАЗКИ
В феврале 1903-го в честь 290-летия правления дома Романовых в Зимнем дворце состоялся знаменитый костюмированный «Русский бал». Идея устроить праздничный маскарад в нарядах допетровских времен принадлежала императрице Александре Федоровне, но главной красавицей бала признали не царицу, а княгиню Зинаиду Юсупову. Первым красавцем нарекли Сергея Александровича в княжеском наряде XVII века.

Великий князь отличался редкой, поистине аристократической внешностью. «Он был высоким, широкоплечим и худощавым, — вспоминала его племянница Мария Павловна. — Он носил маленькую, аккуратно подстриженную бородку. Густые волосы были подстрижены ежиком. В своей обычной позе он стоял прямо, с поднятой головой, выпятив грудь, прижав локти к бокам, и пальцами вертел кольцо с драгоценными камнями, которое обычно надевал на мизинец... Когда он был раздражен или не в духе, губы его сжимались в прямую линию, а глаза становились жесткими и колючими».
«Очень высокого роста, весьма породистой красоты и чрезвычайно элегантный, он производил впечатление исключительно холодного человека... Думаю, что он был бы отличным администратором Москвы, но веком раньше. Государь относился к нему с явным уважением, но, по-видимому, особенной интимности между дядей и племянником не было, хотя они были женаты на двух сестрах, к тому же очень дружных (в 1884 году Сергей Александрович женился на одной из самых красивых принцесс Европы — Элле Дармштадской, в православии — Елизавете Федоровне, она была старшей сестрой императрице Александре Федоровне. — «Культура»)», — отмечал бывший начальник канцелярии Министерства императорского двора генерал Александр Мосолов.
По существовавшей со времен Петра I традиции каждый член российской императорской фамилии отвечал за определенный участок государственного механизма — Сергей Александровичу выпала честь командовать лучшим полком русской лейб-гвардии — Преображенским (наследник престола Николай — будущий царь — был под его началом и командовал батальоном; безусловно, это наложило отпечаток на взаимоотношения дяди и племянника).
ВО ГЛАВЕ ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ
«Я с детства был приучен любить Москву и сознавать ее высокое значение для России», — говорил Сергей Александрович. 26 февраля 1891 года император Александр III назначил его, своего брата, на пост московского генерал-губернатора. Вскоре под началом Сергея Александровича оказалась территория, превышающая любое европейское королевство, — десять губерний (практически вся Центральная Россия): Московская, Тверская, Смоленская, Ярославская, Костромская, Нижегородская, Тульская, Калужская, Рязанская и Тамбовская. Великий князь стал одной из влиятельнейших фигур в системе государственной власти Российской империи.
Получив в свое управление Первопрестольную, генерал-губернатор решил переделать ее «под себя». Так, он уделял большое внимание городской гигиене: при нем вымостили новые улицы, был открыт Мытищинский водопровод, а в 1898 году устроена городская канализация. В 1897-м на Раушской набережной запустили первую очередь городской электростанции: на московских улицах зажглись первые электрические фонари. А еще пустили электрический трамвай. В годы управления Сергея Александровича древней столицей разрабатывался первый проект московского метрополитена.

При Сергее Александровиче, как отметил нынешний градоначальник Сергей Собянин, открывший экспозицию, Москва «начала превращаться в один из лучших европейских городов. В этот период было сделано то, что не было сделано перед этим целое столетие». В декабре 1893 года состоялось торжественное открытие Верхних торговых рядов, на котором присутствовали генерал-губернатор и его супруга Елизавета Федоровна. Вслед за Императорским Российским Историческим музеем, построенном в любимом великим князем «русском стиле», рядом с Кремлем возвели здание Московской городской думы (ныне — Музей Отечественной войны 1812 года) и гостиницу «Метрополь». Шла активная реставрация храмов Кремля, Покровского собора на Красной площади, Крутицкого подворья...
Сергей Александрович очень внимательно относился и к проблемам московского пролетариата, как формулировали в те времена, «принимал к сердцу умственные и нравственные интересы рабочих». Люди труда получили возможность создавать Общества взаимопомощи — будущие профсоюзы; имели право направлять свои претензии работодателям, а государство должно было выступать арбитром в конфликтах между трудовыми коллективами и хозяевами. Крупный промышленник, француз по происхождению, владелец шелкоткацкой фабрики на Шаболовке Юлий Гужон, не пожелавший рассмотреть претензии своих работников, получил предписание в течение 48 часов покинуть пределы России. Понятно, что отечественные заводчики должны были с еще большей готовностью идти навстречу пожеланиям великого князя, и это не могло сделать их взаимоотношения дружескими. Городская бизнес-элита мстила и подчас самым необычным способом. Так, в 1898 году фабриканту Савве Морозову сообщили, что генерал-губернатор хочет осмотреть его недавно построенный дом (роскошный особняк на Спиридоновке называли «московским чудом»). Савва Тимофеевич согласился. Но когда великий князь с супругой прибыли на место, хозяина дома не оказалось, и возведенные Шехтелем хоромы показывал высокопоставленным гостям... дворецкий.
С 1901 года в Москве по инициативе великого князя стали появляться народные дома — места встреч, общения, творческого досуга рабочих, где можно было выпить чаю и пообедать по доступной цене. Новые учреждения стали частью антиалкогольной кампании Московского попечительства о трезвости, в народных домах действовали библиотеки, театры, оркестры, были организованы различные образовательные курсы.
Такая политика приносила плоды: 19 февраля 1902 года, в годовщину отмены крепостного права в России, 50 000 рабочих (прописью — пятьдесят тысяч! — «Культура») устроили патриотическую демонстрацию с возложением венков к памятнику царю-освободителю в Кремле.
ВЕСЬМА КУЛЬТУРНЫЙ ГРАДОНАЧАЛЬНИК
Пятый сын императора Александра II получил хорошее воспитание. Образованием мальчика поначалу занималась фрейлина Анна Тютчева — дочь великого русского поэта, супруга славянофила Ивана Аксакова, лекции об изящных искусствах царевичу читал профессор Адриан Прахов, известный тем, что руководил оформлением Владимирского собора в Киеве. А еще Сергей Александрович с детства интересовался литературой. Например, близкому другу, двоюродному брату великому князю Константину Константиновичу, более известному нам как поэт К.Р., именно он открыл Достоевского. Неплохо рисовал. Недавно в Москве проходила выставка «Романовы. Урок рисования», где можно было увидеть акварели великого князя.
Он всерьез увлекался театром, сам играл в домашних спектаклях, а впоследствии не раз привлекал для организации дворцовых постановок Станиславского и Немировича-Данченко.
Покровительствовал и художникам (являлся августейшим попечителем Училища живописи, ваяния и зодчества, наиболее способных учеников приглашал в свою подмосковную усадьбу Ильинское для отдыха и работы над этюдами). Особенно выделял Виктора Васнецова (помог ему с постройкой в Москве «сказочного теремка» — дома-мастерской), Поленова и Нестерова, чьи работы покупал. У Сергея Александровича имелась отличная коллекция русской живописи.
Генерал-губернатор глубоко уважал скульптора Антокольского, делал ему заказы, посещал мастерскую Левитана. Симпатизировал даже таким представителям художественного «авангарда», как Головин и Коровин.
И, конечно, без деятельного участия великого князя едва ли появился бы в Москве Пушкинский музей: именно он выбрал участок на Волхонке, где теперь стоит ГМИИ имени А.С. Пушкина, возглавил Комитет по сооружению музея, помог со сбором средств (Иван Цветаев писал в дневнике: «Министр финансов Витте упирается, не желая давать 300 тысяч рублей... великий князь не желает получить менее, по крайней мере, 200 000... Посмотрим, кто кого осилит») и лично утвердил проект архитектора Романа Клейна. А еще передал в собрание Музея изящных искусств картины из своих коллекций.

Одним из увлечений Сергея Александровича была археология, он разбирался в этом так хорошо, что основатель Московского археологического общества, председатель Ученой комиссии по созданию Исторического музея в Москве и его первый директор Алексей Уваров называл генерал-губернатора «великим князем от археологии». Став первым председателем Императорского Православного Палестинского Общества, великий князь в 1883 году содействовал археологическим раскопкам в Иерусалиме, подтвердившим историческую подлинность местоположения Голгофы. Также были найдены остатки древних городских стен и ворот времен земной жизни Спасителя.

«ЧЕРНАЯ ЛЕГЕНДА»
Противники тогдашнего государственного строя (немалую долю которых составляли, как ни странно, представители высшей аристократии) прилагали максимум усилий, чтобы опорочить «наместника московского». Революционеры и вовсе считали Сергея Александровича ключевой фигурой партии «реакционеров и охранителей». В чем-то враги московского генерал-губернатора были правы: он последовательно выступал против либеральных реформ и любых попыток ограничить самодержавие в России.
«На великом князе Сергее Александровиче был поставлен эксперимент по дискредитации российской императорской власти и ее десакрализации. Этот опыт дал блестящие результаты для тех, кто его производил — образ Сергея Александровича и в тогдашнее общественное мнение, и в историю прочно вошел с жирным знаком «минус», — пишут современные исследователи. А следующей целью информационной войны стал уже царь Николай II...
Одно из первых обвинений московского генерал-губернатора (возможно, основное) — в юдофобии. Дело в том, что, получив назначение в Первопрестольную, он начал немедля бороться с... нелегальными мигрантами. По действовавшему законодательству Российской империи иудеи не имели права жить за чертой оседлости. Предшественник Сергея Александровича князь Владимир Долгоруков, бессменно управлявший Москвой на протяжении четверти века, оформлял им (за приличную мзду) право на временное проживание, которое евреи затем продлевали и таким образом жили в Первопрестольной годами. Великий князь на своем посту лишь выполнил высочайшее повеление августейшего брата, ведь именно Александр III воспретил «евреям ремесленникам, винокурам и пивоварам и вообще мастерам и ремесленникам переселяться на жительство в Москву и Московскую губернию». Начались массовые высылки, всего за время губернаторства Сергея Александровича из Москвы «выписали» около 25–30 тысяч человек — примерно три четверти еврейского населения города.
Последний гвоздь в крышку гроба генерал-губернаторской репутации вбила Ходынка. В мае 1896 года в Белокаменной проходили коронационные торжества. Организацией мероприятий занималось Министерство императорского двора и уделов. В давке за «царские гостинцы» — вяземский пряник, филипповскую сайку и полфунта колбасы — погибли 1379 человек.
В своем дневнике Сергей Александрович записал: «Я в отчаянии от всего случившегося». Тем не менее министр двора граф Илларион Воронцов-Дашков (он был большим недоброжелателем великого князя), не дрогнув, переложил вину за свою преступную халатность на московского генерал-губернатора. Настоящего виновника трагедии поддержали даже некоторые близкие родственники Сергея Александровича — сыновья великого князя Михаила Николаевича. Так, Александр Михайлович в своих воспоминаниях писал: «Мои братья не могли сдержать своего негодования, и все мы единодушно требовали немедленной отставки великого князя Сергея». Мы не знаем, какая кошка между ними пробежала, но смеем предположить, что причина была в крайней степени личная: автор мемуара был не прочь приударить за красавицей Елизаветой Федоровной (во всяком случае, из его рассказов это следует), хотя еще в 1894 году женился на своей двоюродной племяннице, родной сестре Николая II Ксении Александровне (брак был явно по расчету).
Как бы то ни было, ответственность за гибель людей во время давки молва возложила на Сергея Александровича, которого прозвали «князем Ходынским». В вину ему вменили черствость и равнодушие: дескать, он безмятежно танцевал на балу вечером после случившегося (источник слухов — те же родственники, присутствовавшие на вечере, где московский генерал-губернатор должен был находиться по протоколу).
ВЗРЫВ НА СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ
С началом Первой русской революции Сергей Александрович почувствовал, что не может обеспечить порядок в городе. 1 января 1905-го он ушел в отставку, но продолжал жить в Кремле, в Николаевском дворце (большевики снесли этот дворец, уничтожая всякую память о нашем герое). 4 февраля собирался посетить нового генерал-губернатора в здании на Тверской. Поехал один, без адъютантов, охраны, камер-лакея. Лошади бойко, рысью завернув мимо Чудова монастыря, направились по Сенатской площади к Никольским воротам. Не успела карета доехать сажен 15 до въезда, как раздался оглушительный, неимоверной силы взрыв. Очевидцы описывают: действие «адской машины» было такой чудовищной силы, что князя Сергея буквально разорвало на части, которые еще долго собирали по всей Сенатской. Публика нашла три кольца, одно из них — серебряное с синей эмалью и надписью: «Св. великомученица Варвара». Великая княгиня просила отыскать крест, но его не нашли (эти подробности были опубликованы в 1905 году в брошюре «Мученическая кончина Его Императорского Высочества Великого Князя Сергея Александровича»; авторство не указано, написано просто: «составил Нижегородец»).

Москва на смерть бывшего губернатора отреагировала циничной шуткой «Наконец-то князю Сергею пришлось пораскинуть мозгами!» и несколькими карикатурами. На одной из них городовой, отвечая на вопрос любопытной бабки в платочке «Кого, батюшка, убили?», говорил: «Кого надо, того и убили!».
ТАЙНЫ УСАДЬБЫ ИЛЬИНСКОЕ
Сергей Александрович был очень скрытным человеком. В его жизни имелась какая-то тайна, которую хранили он сам, жена Елизавета Федоровна и, возможно, еще несколько человек, особо посвященных. Попробуем суммировать то немногое, что вышло на свет божий. Однажды в сентябре 1891 года в подмосковное имение Ильинское приехала погостить его невестка — жена брата Павла двадцатилетняя Александра Георгиевна (происходила из греческой королевской семьи, но Николаю I приходилась правнучкой). Она была беременна, и неожиданно начались роды. С появлением на свет сына умерла, а Сергей Александрович принял самое деятельное участие в выхаживании родившегося семимесячным Дмитрия Павловича: укутывал новорожденного ватой, клал его в колыбель, согреваемую бутылками с горячей водой (инкубаторов тогда не было). Лично купал младенца в специальных бульонных ванночках, как рекомендовали врачи.
Сестра подопечного Мария Павловна вспоминала: «С детских лет дядя Сергей и мой отец очень дружили, дядя был глубоко привязан к моей матери (греческой принцессе Александре). Он воспринял как тяжелую утрату ее раннюю кончину в Ильинском, и был безутешен. Он приказал оставить нетронутыми комнаты, в которых она провела свои последние часы, чтобы в них все было точно так, как когда она умерла. Он запер их и сам хранил от них ключи, не позволяя никому туда входить... (Странное поведение для деверя, не правда ли?.. — «Культура».) Все считали его, и не без основания, холодным и строгим человеком, но по отношению ко мне и Дмитрию он проявлял почти женскую нежность».

Московские Романовы взяли на себя ответственность за воспитание малюток (Павел Александрович, не особо интересовавшийся своими детьми, через непродолжительное время заключил морганатический брак с мадам Пистолькорс и покинул пределы империи), оформили опекунство. Мария и Дмитрий неизменно все праздники, особенно Рождество, отмечали в доме Сергея Александровича. «Ему нравилось проводить с нами время, и он не жалел его для нас, — вспоминала Мария Павловна. — Но он всегда нас ревновал. Если бы он только знал, как мы обожали отца, он бы этого не перенес (! — «Культура»)». А вот Елизавета Федоровна к племянникам относилась с холодком: «тетя Элла не проявляла никакого интереса ни к нам, ни к тому, что нас касалось. Казалось, ее раздражает наше присутствие в доме и то, что дядя к нам так привязан».
Интересно, что последней в дневнике великого князя накануне его убийства была запись о Дмитрии и Марии: «Читал детям. Они в восторге от вчерашней оперы». Слово «детям» можно понимать по-разному...
Могло ли быть так, что Сергея и Александру связывали не только родственные отношения, а Дмитрий не являлся сыном Павла? Если догадка верна, то становится понятно, почему это скрывалось. Во-первых, если бы подобное вышло наружу — случился бы грандиозный скандал. Во-вторых, у великого князя перед глазами был пример отца, Александра II, который десятилетиями изменял жене, а свою маму, Марию Александровну, Сергей очень любил. Возможно, распространившийся в ту пору слух о нетрадиционной ориентации великого князя специально не опровергали, чтобы прикрыть еще больший грех?.. Кто знает...
Еще одним объяснением тому, что у Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны не было детей может служить факт: принцессы Дармштадтские являлись носительницами гемофилии. Можно, конечно, было положиться на волю Божью, но известно, к чему это привело в царской семье: к неизлечимой болезни наследника, перманентной августейшей истерике, появлению в «ближнем круге» Распутина, расколе в высших кругах империи и в конечном счете к революции (здесь мы, конечно, утрируем, хотя определенное влияние на ход российской истории все это, несомненно, оказало). Может быть, Елизавета Федоровна не хотела такой участи для своей семьи и поэтому сохранила в браке невинность. Подчеркнем: в браке с горячо любимым мужем...
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
В прошлом году в Москве, в Безымянном сквере у церкви святого Климента Папы Римского появился памятник великокняжеской чете — Сергею Александровичу и Елизавете Фелоровне. Автором проекта выступил скульптор Георгий Франгулян. Почему то при взгляде на эту скульптуру вспоминается... большевистский план монументальной пропаганды. Как известно, план был задуман Лениным в 1918 году и предусматривал не только возведение памятников революционерам всех времен и народов, но и снос «истуканов» недавнего царствования. И первым в этой кампании был уничтожен памятный крест, установленный по проекту Виктора Васнецова на месте убийства великого князя на Сенатской площади Московского Кремля, Ленин лично участвовал в сносе памятника. В 2017 году по поручению президента России Владимира Путина его восстановили.

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»
 НОВОСТИ СЕГОДНЯ
НОВОСТИ СЕГОДНЯ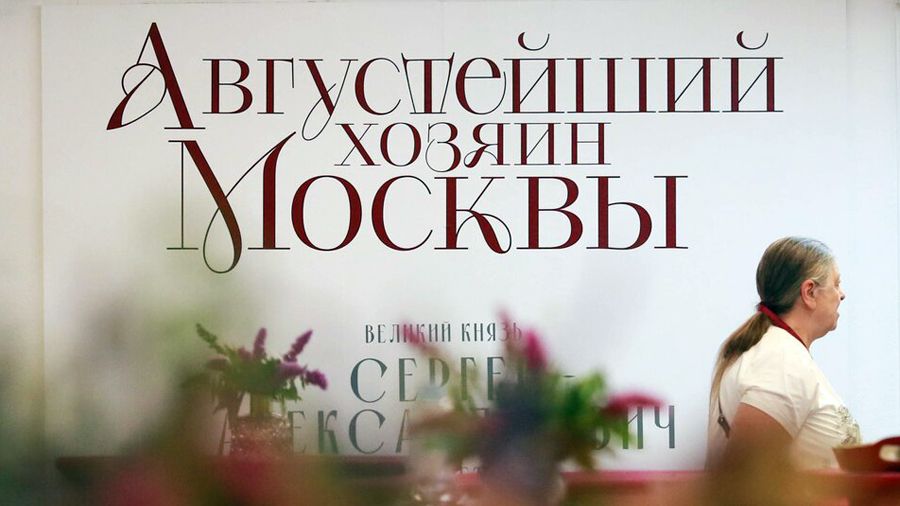
 Похожие новости:
Похожие новости: