
Подключить здание к городской тепловой сети в обычных условиях — это котлованы, дорожные ограждения, шум, пыль. Но если здание — исторический объект в самом сердце Москвы, а рядом проходит магистральный коллектор на глубине 12 метров, за которым строго следит ФСО? Тогда обычные методы не работают.
Мы поговорили с Дмитрием Захаровым — руководителем проектов по модернизации систем теплоснабжения крупнейших объектов столицы. Более 20 лет он занимается тем, что для большинства остаётся невидимым: реконструирует инженерные системы в действующих зданиях, не останавливая их работу. Под его руководством проводилась модернизация теплоснабжения знаковых объектов столицы, включая Белый дом, Театр имени Вахтангова, Центральный НИИ эпидемиологии, центр управления МЧС и производственный комплекс ТВЕМА.
Но один из самых дерзких проектов — подключение театра на Арбате — потребовал настоящего инженерного прорыва. Невозможно было копать. Нельзя было нарушить целостность улицы. Приняли решение продавить трубу диаметром 1 метр изнутри подземного паркинга, используя его как стартовый котлован.
Это решение позволило: избежать масштабных земляных работ, сохранить архитектурный ансамбль, подключиться к коллектору без остановки теплоснабжения района. Как создать упор для домкрата там, где нет грунта? Где собирать горячий теплоноситель, если сливать его в паркинге смертельно опасно?
И почему лучшие решения рождаются тогда, когда «нельзя» становится вызовом?
Ответы — в интервью с человеком, который знает: невозможное — просто задача с непривычным решением.
— Дмитрий, расскажите о проекте на Арбате. Почему он стал таким уникальным?
— Подключение к городским сетям в центре Москвы — всегда вызов. А в этом случае всё было предельно сложно. Коллектор проходит на глубине 10–12 метров, там сосредоточены тепловые сети, кабели связи, силовые линии. Доступ регламентирован Москоллектором и согласован с ФСО — любое нарушение исключено.
У нас не было права на ошибку. Улица — пешеходная зона, вскрытие невозможно. Стартовый и приёмный котлованы сделать нельзя. Казалось бы — тупик.
На одной из встреч с коллегами возникла идея: а что, если использовать подземный паркинг как стартовую площадку? Он находится на той же глубине. Мы можем пробить стену и выполнить горизонтальное продавливание футляра прямо до внешней стены коллектора.
Никто так не делал. Но именно это позволило минимизировать вмешательство в городскую среду.
— Какие главные технические препятствия вы преодолели?
— Их было три.
Первое — гидравлический уклон.
Труба должна была располагаться так, чтобы нижняя точка была со стороны паркинга. Это критично для слива теплоносителя. Если уклон будет нарушен — система не будет работать. Мы провели точнейший расчёт трассы, чтобы обеспечить нужный угол.
Второе — безопасный дренаж.
Теплоноситель нагревается до 130 °C. Прямой сброс в паркинге невозможен — это смертельная угроза. Мы разработали специальную дренажную насосную станцию, которая собирает жидкость в приёмный колодец на безопасной глубине. Это стало ключевым элементом безопасности.
Третье — отсутствие упора для домкратов.
Обычно при продавливании используют опору в грунте. У нас её не было — только бетонная плита паркинга. Мы спроектировали металлоконструкцию из швеллеров, которая перераспределяла нагрузку и передавала её на фундамент. Это был наш собственный инженерный ноу-хау.
— Какие ещё проекты стали для вас знаковыми?
— Для меня каждый объект — как страница жизни. Но есть те, что особенно запомнились.
Отправной точкой стал Национальный центр управления кризисными ситуациями МЧС России — мой первый по-настоящему сложный проект. Он закалил мой характер и дал бесценный опыт. Очень запомнился комплекс работ для производственного комплекса «ТВЕМА», который производит вагоны-дефектоскопы для железных дорог. Мы прошли весь путь: от получения технических условий до ввода в эксплуатацию.
Безусловно, знаковым был проект реконструкции комплекса Театра имени Вахтангова — технически очень сложный, с уникальным проколом под Арбатом, работали без остановки эксплуатации — зрители даже не замечали, что вокруг идёт реконструкция. А также работа с усадьбой Струйских, где располагался издательский дом «Коммерсант». В целом, чувство сопричастности к истории города возникает, когда работаешь с такими объектами, как музей современной истории России в здании бывшего Английского клуба. Это не просто работа, это часть жизни города.
— Что самое сложное в вашей работе: техника, люди или бюрократия?
— На разных этапах карьеры — разное.
В начале — главное было собрать команду и получить опыт. Потом — адаптироваться к растущей бюрократии. Сегодня контроль со стороны государства строже, чем раньше. Иногда это приводит к излишним формальностям, но я понимаю: энергетика — сфера потенциально опасная. Безопасность важнее скорости.
Моя первая начальница, Алевтина Семёновна, сказала мне однажды: «Все эти нормы написаны кровью». Тогда я воспринимал это как прописную истину. Сейчас, после десятков проектов, понимаю: она была права. Компромиссы с безопасностью недопустимы.
— Как за 20 лет изменился подход к теплоснабжению в Москве?
— Кардинально. Раньше город был поделен между множеством теплоснабжающих организаций с разными требованиями. Создание МОЭК и «единого окна» упростило понимание правил игры, но сделало процессы более формальными.
Зато прогресс в технологиях огромен. BIM-проектирование, цифровые модели — всё это делает процессы быстрее и точнее. Ошибки, которые раньше исправлялись месяцами, теперь корректируются за часы. Но технологии не заменят опыт. Выбор оборудования, согласование с другими службами, принятие решений в условиях нехватки ресурсов — это всё остаётся за человеком.
— В чем секрет успешной реконструкции без остановки работы объектов?
— Чаще всего это рутинная, но очень точная работа. Требуется глубокое понимание графиков отключений, переключений, логистики и этапности работ. Секрет — в опыте и упорном труде, зачастую тяжелом как интеллектуально, так и физически. Никакой магии, только планирование и исполнение.
— Насколько сегодня важна цифровизация в вашей сфере?
— Крайне важна. Я еще со времен института, работая в НИИ, видел, как группа студентов с компьютерами по производительности превосходила опытных инженеров с кульманами. Сегодня программы берут на себя рутину: выбор трассировки труб, расчёт высотных отметок. Это сводит к нулю человеческие ошибки в черчении. Но технологии не заменят опыт и экспертизу специалиста, который должен принимать ключевые решения по оборудованию и его интеграции.
— Какие ошибки чаще всего допускают заказчики?
— Главная — попытка обойти регламент. Хочется быстрее, дешевле, «по-своему». Но это рано или поздно приведёт к аварии или к необходимости всё переделывать.
То же самое — с правовыми отношениями с теплоснабжающими организациями. Лучше сразу договориться, чем потом платить за последствия.
— Каким вы видите будущее теплоснабжения Москвы?
— У нас уникальная система, заложенная ещё в 1930-е. Концентрация ТЭЦ даёт надёжность, эффективность, доступность тепла. Полностью менять её на образцы из других стран — бессмысленно и безумно дорого.
Будут расти энергоэффективность, внедрятся учёты, утепление, снижение теплопотерь и утечек. Но технической революции не будет — экономически это нецелесообразно. Тепло в Москве слишком дёшево, чтобы окупать "зелёные" технологии, популярные на Западе.
Главное — совершенствовать то, что уже работает. И делать это без остановки города.
P.S.
Дмитрий Захаров — не просто инженер. Он — архитектор невидимой инфраструктуры, которая держит город в тепле. Его работа происходит под землёй, за стенами, вне поля зрения миллионов жителей мегаполиса. Но без таких людей Москва просто замёрзнет.
Он показывает, что великие решения рождаются не в условиях свободы, а в рамках жёстких ограничений. Когда нельзя копать — приходится думать. Когда нельзя останавливать — приходится быть точным.
Будущее мегаполисов — за теми, кто умеет ремонтировать машину, не выключая двигатель.
 НОВОСТИ СЕГОДНЯ
НОВОСТИ СЕГОДНЯ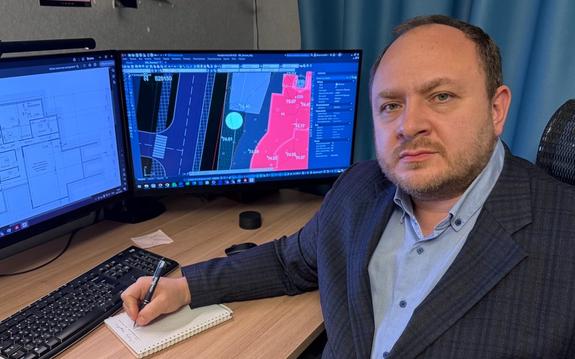
 Похожие новости:
Похожие новости: